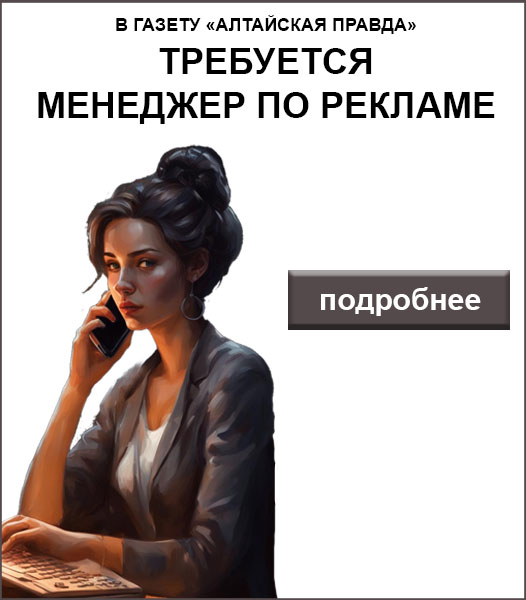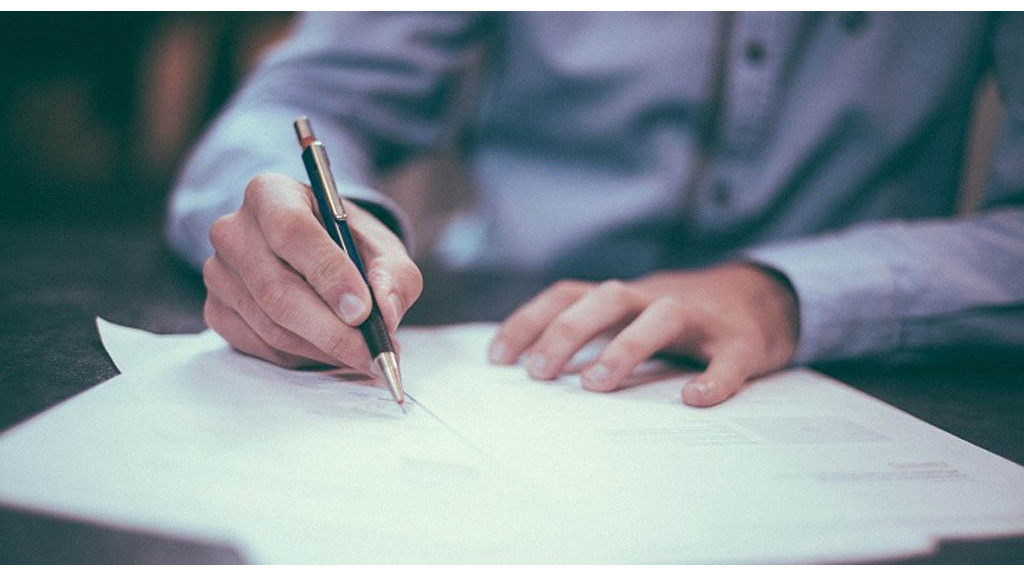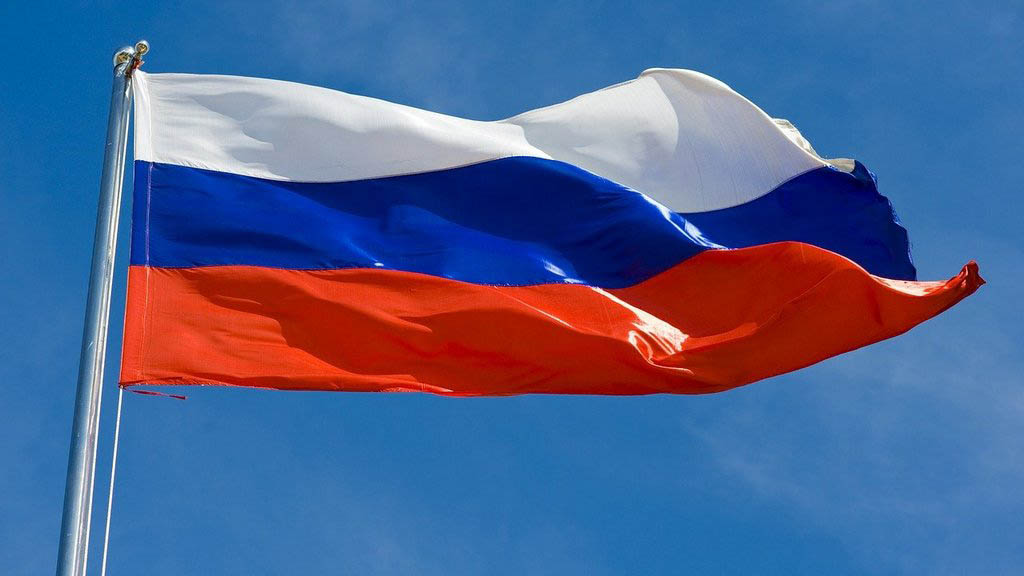Память – неубитая. Воспоминания о войне алтайских ветеранов
10:00, 21 апреля 2018г, Общество 2293
Эта война была страшной и искалечила не только миллионы человеческих тел, но и миллионы душ. Не зря же спустя долгие годы после ее окончания пережившие ее наши отцы и деды так не любили вспоминать о том времени. В одном из своих посланий известному литературному критику Валентину Курбатову большой русский писатель-сибиряк Виктор Астафьев писал: «… на войне меня любили и даже с плацдарма вытащили, но там, на плацдарме, осталась половина меня – моей памяти, один глаз, половина веры, половина бездумности и полностью остался мальчик, который долго во мне удобно жил, весёлый, глазастый и неунывающий…»
«Сколь ни проживи, не забудешь»
– Когда случается в госпитале лежать и ночью храпит кто-нибудь рядом, всегда снится, что или танки на меня идут, или бомбят, – рассказывал несколько лет назад фронтовик-сталинградец Николай Константинович Аверкин. – Или трамвай поздно вечером гремит под окном, а надо мной самолёты летят, бомбы, как капли чёрные, падают...
Я на фронте бомбежку хуже всего переносил. Когда стреляют, проще, так как свой снаряд или пулю ты никогда не услышишь – звук идет сзади и, если прожужжало-свистнуло, значит, не твоё. А с бомбами хуже, там никогда не угадаешь, куда бежать, где прятаться. И хоть ты на ровном месте, хоть в траншее или блиндаже – чувство одинаково поганое. Вот смотришь, случалось, как они заходят, начинают пикировать. Как от «лапотника», будто капельки, отделяются бомбы, визжат, становятся всё больше и больше, обхватываешь голову руками и лежишь ждёшь. Такое хоть сколько проживи, не забудешь...
Не забудешь…
Шталаг IV-B находился на границе Польши с Германией. Павловчанин Ефим Никанорович Чурилов попал туда в 1943-м, после того как раненым был взят в плен немцами под Сталинградом. Кормили там наших военнопленных два раза в сутки баландой из свеклы или гороховой шелухи плюс граммов по 100 – 150 хлеба, тоже два раза в день – перед выходом на работу и после. Тех, кто работать не мог, отправляли в Польшу в печи Освенцима. Тех, кто пытался бежать, если не затравливали сразу при поимке собаками, расстреливали показательно перед строем пленных. Если же обнаружить беглецов не удавалось, расстреливали каждого десятого из их рабочей команды.
– Вот один раз таким десятым оказался и я, – Ефим Никанорович рассказывал эту историю, когда ему исполнилось уже 93 года, понятно, что не в первый раз, и все равно заметно волновался. – Ткнул немец в грудь: «Цейн» («десять») – и пошел дальше вдоль строя: «Айн, цвай, драй...» Я обмер. Надо выходить... И тут старик солдат, немощный совсем, что сзади меня во втором ряду стоял, говорит тихо: «Ты молодой, еще повоюешь». Дернул меня на свое место, а сам вперед вышел...
И с того момента запала мне мысль – бежать. Так смерть и так смерть. А повезет, может, и доведется еще кого из них на тот свет отправить. Полное было безразличие к жизни. Хоть к своей, хоть к чужой…
Тогда, уже после разговора, у порога его квартиры в Павловске Ефим Чурилов вдруг улыбнулся и сказал: «А не зря мы все-таки с землячком Васей Земеровым из лагеря тогда бежали – и за себя, и за других повоевать и пожить довелось...»
Без гарантии выжить
Наносила война и меньшие, но все ж болезненные раны в душе, так сказать, личного порядка. Но, даже зарубцованные в шрамы, оставались они в ней на вечное хранение.
– Когда в июне 1943 года мы стояли в обороне под Белгородом, я получил медаль «За оборону Сталинграда», орден Красной Звезды и звание старшего лейтенанта, а еще письмо от своей девушки, с которой мы переписывались с начала войны, – вспоминал Николай Аверкин. – Она мне написала: «Николай, впереди ещё, похоже, долгая война, и неизвестно, вернёшься ли ты с неё. У нас тут пришёл парень по ранению, предлагает выйти за него замуж». И обидно было, и смешно даже немного. Написал в ответ, что ей виднее, как поступить, и война, видать, будет еще долгая, и я гарантии остаться живым дать, конечно, не могу.
Позже, уже в 1944-м, под Яссами я получил письмо от учителей из своей деревни Барановки под Змеиногорском, что, мол, к нам в школу прибыла молодая учительница из Рубцовского педучилища, если желаешь, пиши ей. Я написал, она мне ответила. Стали переписываться. В 1948 году мы с Шурой поженились и прожили вместе 51 год до её кончины...
А бывало и по-другому
23 февраля 1944 года, поскольку позволяли обстоятельства, в 1081-м стрелковом полку сформированной в Славгороде 312-й стрелковой дивизии отмечали День Красной армии. Весь вечер командир лыжного батальона танцевал с командиром санитарного взвода лейтенантом медслужбы Марией Бабкиной.
– Просто не отпускал меня от себя, – вспоминала спустя долгие годы Мария Петровна. – Я видела, что очень ему нравлюсь, да и он мне тоже понравился. Но вот когда его ранило через несколько дней под Пустошкой, это на Псковщине, он к нам в санроту не зашел, отправился прямиком в санбат. Уже из госпиталя прислал мне два письма, в которых спрашивал, хочу ли я, чтобы он, когда выздоровеет, вернулся в нашу часть, если да, то он обязательно этого добьется. Понятно было мне, о чем он спрашивает, но у меня к тому времени погиб на фронте отец, мама одна поднимала на ноги пятерых моих братьев и сестер, и я должна была думать о них, а не о себе. Мне нужно было после войны помогать маме, и я на письма комбата не ответила. В часть нашу он после госпиталя не вернулся.
Воспоминания о детстве
Яровчанин Василий Свиридов рассказывал, а затем и написал в своей книге «Судьба детей войны» о боях в феврале 1943-го неподалеку от его родного хутора Опушино на Курщине:
«После освобождения Обояни наши шли вперед, выбивая немцев из впереди лежавших сел. В ротах оставалось мало бойцов, и пополнялись они теперь за счет мужского населения из освобожденных сел и деревень. Медкомиссий, конечно, не было, набирали бойцов в виде ополчения из тех, кто пришел на сборный пункт. Распределяли по ротам, взводам и шли дальше. Бойцы говорили, что в Кондратовке немец хорошо засел, бои там были сильные и не один день. Когда они закончились, на поле боя вышли женщины, подростки, старики. Были там и наши хуторяне, искали своих. Ходили среди убитых, нагибались, переворачивали и, опознав, увозили домой. Потом их всех похоронили на хуторском кладбище.
До того возле Опушино тоже был сильный бой. И на заснеженном поле возле хутора осталось много трупов – наши, немцы, венгры вперемешку. Мы, ребятишки, мне тогда было 12 лет, ходили по этому полю искали в рюкзаках и вещмешках убитых что-нибудь съестное. У наших погибших солдат никогда ничего не находили, у немцев случалось. Война, оккупация зачерствили наши детские души. Найдешь в рюкзаке у убитого немца сухарь, сядешь на его же промерзший труп и сидишь жуешь…
Выживший в Ленинградскую блокаду в то страшное время учащийся ремесленного училища имени Кагановича, тоже яровчанин, Василий Кононов вспоминал, что, «какими бы мы голодными ни были, крыс все равно не могли есть, выворачивало. Кошек и собак, каких сумели поймать, съели всех, а с крысами пришлось на хитрости пускаться. Поймаем крысу, забьем, сварим и товарищу, какого с нами не было, говорим: «Кошку сварили, твоя доля». Он, конечно, догадывается, что мы его обманываем, но ест. Так проходило. «Суп» из обоев варили. Их мучным клейстером раньше на стены клеили, так что какой-то съедобный навар получался».
– После того как снаряд попал в нижний этаж здания училища, мы перебрались на второй этаж в актовый зал, – рассказывал Василий Алексеевич. – Там все вместе и спали. Каждую ночь умирало несколько ребят. Выносить их наружу со второго этажа сил не было, и мы сбрасывали умерших в лестничный пролет. А затем уже вытаскивали на улицу, где трупы собирали работающие по городу специальные команды. Много лет спустя я был в Ленинграде, заходил в это здание и долго стоял на лестничной площадке…
Аж мурашки по коже
Иван Лубинец с первой встречи заражал своим жизнелюбием. И хотя нет его уже на белом свете, прошедший от Сталинграда до Праги кавалер двух орденов солдатской Славы, участник Парада Победы на Красной площади летом 1945-го крестьянский сын из села Утянка Хабарского района нашего края старшина-разведчик Лубинец является для автора этих строк символом нашего солдата-победителя.
– Эх, Иван Григорьевич, – сказал я как-то ему в разговоре, – ещё вам немного повоевать – и третью б «Славу» заработали. Был бы у вас полный «иконостас».
Он посмотрел на меня недоумённо, помолчал: «Да я и эти две отдал бы, лишь бы она хоть на день или час раньше кончилась… Нас на Сандомирский плацдарм за Вислу, считай, полторы тысячи переправилось, а назад переплыло только несколько человек. Как, думаешь, я потом жил после этого? Да и только это ли было…»
Опять помолчали немного, а потом он вдруг тихо и как-то особенно доверительно сказал: «Ты знаешь, я ведь очень крепкий был парень, стрелял отлично, ножом владел хорошо. И вот сколько лет-то прошло, а проснусь, бывает, ночью, лежу и думаю: «Сколько же я людей убил…» И понимаю ведь, что враги это были лютые, не я бы их – они меня. А всё равно мурашки по коже…»