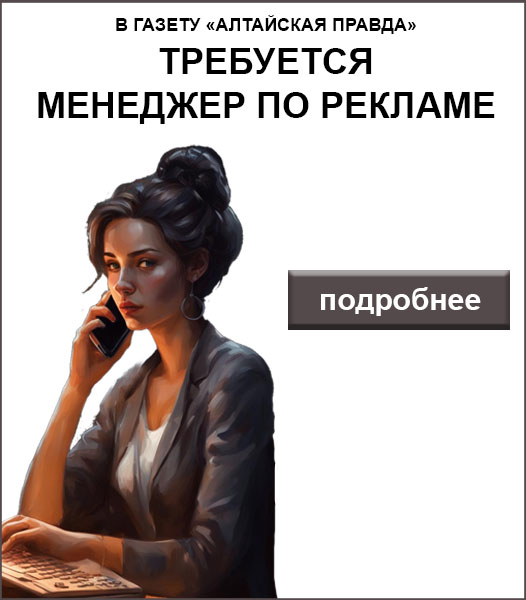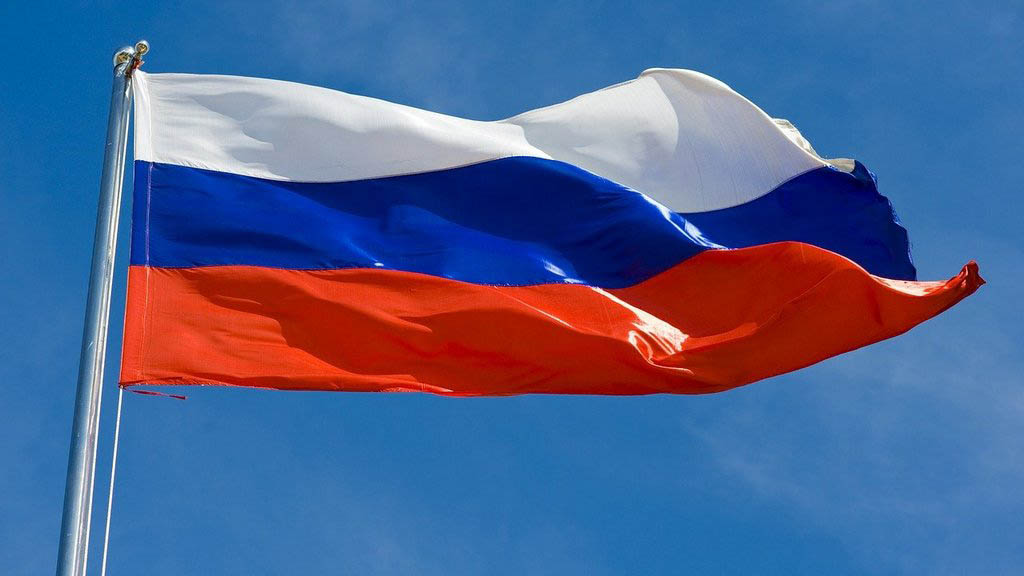«ЗОЛИНГЕН»
00:00, 26 марта 2010г, Общество 1533
Осенью сорок второго года о них вспомнили. Приехали двое с отекшими лицами, со шпалами в петлицах. Лагерников построили. «Ну что, дармоеды? Кто желает вину кровью искупить?» Кое-кто вышел. Павел Карпенко тоже. Поехали на фронт...
В сотый раз уже проклял Пашка: казенную фуфайку, которую носил не только на работе, но и дома, «добрых» людей, сообщивших об этом куда следует, три лагерных года «за разбазаривание социалистической собственности…»
В набитой бедовым народом прокуренной землянке стоял кислый запах пропотевших портянок и перегарный душок. Павел сидел в углу, сжавшись в комок, курил, слушал вполуха, как ругаются над картами мутноглазые урки, и было ему тоскливо и страшно. Вроде и быть-то хуже «родного» лагеря ничего не могло, но ведь выжил-таки. А тут. Рассказали уже добрые люди, сколько штрафников из боя возвращается.
Рядом отшмыгивал бритвой намыленный квадратный подбородок высокий белобрысый парень, лет двадцати пяти от роду. Гимнастерку и нательную рубаху он снял, и пригорюнившийся Паша нет-нет да и поглядывал на широченные плечи и мощные мускулы соседа.
Белобрысый кончил бриться, вытер тряпицей мокрое лицо. Оделся, не спеша до последней пуговицы застегнул гимнастерку. Затем внимательно оглядел лебяжий пух на Пашкиных щеках и, хмуро усмехнувшись, протянул Карпенко бритву «Золинген».
– Держи, браток, поскоблись. А то зарос ты, будто дед столетний.
– На шо? – Павел даже не шевельнулся. – Все одно завтра на смерть.
– Это ты зря, – серьезно сказал здоровяк. – Человек – это звучит гордо! Слыхал, небось? И выглядеть надо соответственно, если, конечно, вот таким стать не хочешь, – кивнул он в сторону урок. – Так что бери, браток, не стесняйся.
Так они познакомились. Иван Андреев и Павел Карпенко.
Штрафная рота, по-окопному «Шура»… Запомнил ее Паша.
Голая стылая степь, мерзлая земля под щекой, надрывный бег, матерщина… Свинцовые вееры из германских пулеметов, мины, снаряды, бомбы… Тонкие предсмертные крики, хрип, стоны, мертвые и изувеченные люди вокруг…
После третьего штурма неизвестной им деревеньки из восьмисот человек в строю осталось около полусотни. Среди них Павел Карпенко и его новый дружок, бывший морской пехотинец с Балтики Иван Андреев.
В штрафники Иван попал заурядно. Перебрал в случайной пьянке и из-за смазливой санинструкторши подрался с командиром роты. Досталось обоим, под трибунал пошел Андреев.
В том бою Ивану осколок мины задел правую голень, а Пашке пулей вскользь зацепило левое плечо. Повезло мужикам. После короткого пребывания в санбате попали вместе в один стрелковый батальон.
***
Война катилась на запад. В сводках – неудержимо и стремительно, в сути – медленно и тяжело. Были поиски, были атаки, но Бог друзей миловал. Павлу лишь раз пришлось побывать в полевом лазарете – задела бедро шальная пуля. В другой раз к костру, когда взвод устраивался на ужин, явился с тонким визгом минный осколок и чуть не наделал беды. Точно остался бы Пашка без причинного места, но, на счастье, загородил это место приклад автомата, который Карпенко, словно по доброму чьему-то предупреждению, минуту назад поставил между ног. Рассматривая автомат с засевшим в нем минным ошметком, Иван задумчиво отметил:
– А ведь могло оторвать хер на хер… Видать, люб ты небесам, коль так они распорядились.
Так и шагали друзья по военной дороге, особо героических подвигов не совершая, но и не ударяя перед недругом в грязь лицом. Может быть, дошли бы вместе и до победного салюта, но случилось иначе. Стылой осенней слякотью сорок четвертого на мокром от дождя и крови «грейдере» Павел Карпенко заработал орден Красной Звезды и потерял своего боевого друга Ивана Андреева.
Двигаться приходилось только по шоссе, стоило шагнуть со щебенки, как ноги до колена погружались в зыбкую, липучую грязь. Немцы отходили к перегородившим дорогу, разбитым нашей авиацией грузовикам. «Шмайссеры» стучали уже из-под колес. Огонь становился все плотнее, потери наступавших росли и росли, а когда зачихали германские минометы, стало совсем невмоготу.
– Ложись, Пашка! – требовательно крикнул Иван откуда-то сзади. – Тут без танков – дело дохлое.
Карпенко оглянулся на друга и увидел, как Иван вдруг на бегу сломался, шагнул раз, другой боком и упал. Пулемет ручной, ударившись о «грейдер», подпрыгнул и застыл возле неживой уже руки хозяина.
На какой-то миг Пашка просто отключился. Потом дико закричал и замолотил по земле кулаками. Застрочил из автомата, пока тот не щелкнул впустую. Это отрезвило… Карпенко положил ППШ на шоссе и кинулся к пулемету. Но не успел сделать и трех шагов, как его схватил за ногу взводный, младший лейтенант, без году неделя в роте, мальчишка. Тычет наганом Павлу в спину:
– Куда, сволочь?! Застрелю!
– Так, товарищ лейтенант, ручного ж пулеметчика вбыло. Пулемет трэба взять.
– Трус! – презрительно скривил губы взводный.
– Так ручного же…
– Ложись, паскуда!
Всклубилось позади младшего лейтенанта трескучее дымное облачко, и спор кончился. Взводный сунулся раскрытым ртом в густую грязь, а Пашка через трупы пополз к Андрееву. Тронул легонько его за плечо, хотя и знал, что напрасно. И дальше действовал уже автоматически, как война научила. Он подобрал пулемет и огляделся. До своих не добежать: убьют. Но и здесь, на дороге, тоже убьют рано или поздно. Он прижал к груди «дегтярь» и, перекатившись к краю шоссе, с маху окунулся в вязкую, стылую грязь.
Еще до смерти Ивана заметил Карпенко недалеко от дороги ржавый, чуть не по башню затянутый в трясину «KВ». То ли танк находился вне поля зрения немцев, то ли потому, что из-за него не стреляли, они по машине огонь не вели. Павел «доплыл» до танка, отдышался, установил на броне пулемет, сдернул с головы ушанку, вытер ею грязь с казенника. Торопливо подышав на окоченевшие руки, передернул затвор. Только управился – поднялись из-за грузовиков мышастые фигуры. Тарахтя на ходу автоматными очередями, побежали, как Павлу показалось, прямо на него.
– Держите, гады! – взвизгнул рядовой Карпенко, и «Дегтярев» застучал. Потеряв несколько человек, егери залегли и принялись ожесточенно палить по мертвому танку. Пули зацокали по броне, и лежать бы Пашке в одной могиле с теми, кто остался на дороге, но, на счастье, загрохотала по шоссе долгожданная «тридцатьчетверка». Следом еще и еще…
Павел взвалил ручник на плечо и, собрав последние силы, добрался до дороги. Тяжело двигая ногами, подошел к Ивану. Осторожно перевернул друга на спину. Лицо Андреева было спокойно, казалось, что он даже привычно усмехается. Павел достал из кармана чистую тряпицу, вытер грязь с гладко выбритой щеки Ивана и заплакал.
***
Под Кенигсбергом Павла Карпенко вновь ранило. Ухнуло тяжко впереди, и метнуло Пашкино тело как щепку из-под топора. Больше месяца он ничего не слышал и не мог говорить. Однако ходить потихонечку научился. Вышел однажды на крыльцо госпиталя и увидел перекошенные криком рты, слезы, ходящие рывками меха гармони. Понял: «Все! Кончили гадину!» Тут же в ушах что-то хрустнуло, резанула близко автоматная очередь. И словно выскочил он из глухого застенка на звонкий простор, вместе с очередью услышал горластое «ура-а-а…». Обхватив руками голову, заплакал от ошеломившей радости. С трудом выталкивая из горла нужные звуки, закричал рыдая: «Ура-а-а». И снова, и снова кричал, словно боялся: остановись, наступит бескрайняя тишина.
Рано так полно радовался. И слова-то такого никогда не слыхал: импотенция. Но когда сказал ему седой, с грустными глазами доктор, что «тяжелое ранение в нижнюю часть живота привело к нарушению функций… Вследствие чего…» – понял сразу. Спросил едва слышно:
– Насовсем?
И в ответ услышал такое же тихое:
– Пока здесь медицина бессильна.
«Значит, вдругорядь не повезло, – только и подумал Пашка, – отвернулся от меня Господь». Крепко пожалел тогда он себя, на немецкого артиллериста обиделся. Не мог, падла, поближе снаряд положить, чтобы порвало в клочья.
С тех пор в бессонные ночи тискал Павел до немоты в пальцах жесткую больничную подушку и думал о своей молодой жене. После госпиталя Карпенко болтался по вокзалам и разным веселым хатам. До тех пор жизнь прожигал, пока от фронтовых денег и трофеев следа не осталось. И от офицерских новых сапог тоже, и от гимнастерки, и от шинели. Носил он теперь замасленный ватник, галоши на босу ногу, сопревшую рубашку на голом теле.
Зашел однажды в привокзальный, насквозь провонявший всей вонью великой страны-победительницы сортир, вынул Иванов подарок – бритву с перекрещенными клинками на лезвии, «Золинген» – только ее и сберег в память о друге. Попробовал осторожненько на палец – гут! Больно не будет. Выкурил подряд две махорочные самокрутки, закатал до локтя левый рукав, зажмурил глаза…
И увидел вдруг сквозь хмельную пелену, как они с Лизой идут в баньку через огород. Подсолнухи, ботва зеленая, огурцы, за речкой солнышко садится, березовым дымом от баньки тянет… А у Лизы груди под рубашкой вверх-вниз, вверх-вниз! Заскрипел Пашка зубами, поднял лезвие и вдруг за плетнем мать свою увидел, что еще в тридцать первом от голода померла. Опустилась рука. Постоял немного в зловонном сортире, вытер со лба пот, упрятал аккуратненько бритву в футляр.
Без денег, без харчей, без билета поехал домой. Жена ушла после первой же ночи в соседнюю деревню к почтальону. В тот же день Павла навестила соседка. Поохала, глядя на болезненное лицо бывшего сержанта, поругала походя войну и смачно поведала Пашке, какая стерва его жена.
Лиза начала встречаться с почтальоном, еще когда Пашка отбывал срок. Почтарь развозил письма и похоронки по нескольким деревням. Заезжал порой и к Лизе Карпенко, хотя всем было известно, что письма она никогда не получала. Бывало – засиживался. Но когда прислал Павел с фронта первое письмо, почтальон вышел из карпенковского дома без задержки. Он еще не раз привозил Лизавете серые солдатские треугольники, но отдавал их хозяйке прямо на пороге. И, помявшись немного у захлопнувшейся перед ним двери, медленно шагал к своему возку.
Лиза ждала мужа. Верила, что простит. Ведь столько лет без весточек, думала, сгинул уже. Если бы знала, что живой, да разве бы…
Дождалась.
Сереге-почтальону – высокому узкоплечему парню со светло-голубыми глазами и кудрявыми завитушками длинных волос – перед самой войной сенокосилка подрезала ногу. На фронт его не взяли, а в почтальоны сгодился. Колесил по деревням, развозил письма, газеты, затем и похоронки, и извещения о без вести пропавших. Притерпелся к чужому горю, от «изголодавшихся» баб ему в войну отбоя не было. Какую бы другую выбрать, нет же, сволочь колченогая, Лизку присмотрел.
«Сколько путевых ребят побило, – с безысходной злобой думал Пашка. – Ивана война не пощадила. Эта гнида ногтя его не стоит. А вот живет, жирует с чужой бабой. Сейчас, небось, на перинке надо мной посмеивается».
Мучился Павел несколько лет. Устроился на работу, развел огород, посадил сад, за которым с упоением ухаживал. Но покой не приходил. Внутри у Карпенко словно поселилось злобное существо, зудящее: «Убить, убить, убить»…
И Павел начал действовать. Перестал глушить себя вином, купил ружье, научился стрелять навскид, зачастил хаживать в плавни.
Чаще всего охотился на озере Кругленьком. Во-первых, ближе, чем другие, к дому, во-вторых, песчаное дно, очень приятное для купания. А еще на нем частенько рыбачил Серега-почтарь. Как этот колченогий не боялся шастать по плавням, только Богу известно.
Павел все Серегины маршруты изучил, но с выстрелом медлил. Что ни говори, не война и не фашиста…
…Карпенко стоял в высоких зарослях камыша и внимательно следил, как, поеживаясь от утреннего холода, входит в воду Сергей Лукашов, новый муж его Лизы. На плече – удочка, на губах – благостная улыбка. Павел неслышно взвел курки и прижался щекой к прикладу, привычно выдохнул и мягко потянул спуск. И в этот решающий миг будто кто-то неведомый толкнул под локоть. В полуметре от почтальона вскинулся серебристый султан. Лукашов резко присел, бросил удилище – и к берегу.
Швырнул в таратайку одежду, торопливо перекинулся в кузовок, понукнул лошадь и исчез, оставив пыльное облачко да березовое удилище на плесе, как метку о том, что здесь пару минут назад остался цел человек, обреченный другим человеком на гибель. Павел вышел на берег, бросил под деревце ружье, достал из вещмешка початую поллитровку и, вытащив размокшую бумажную пробку, глотнул жадно раз, другой. Сплюнул, зажевал выпитое травинкой и великодушно бросил в пространство:
– Живите, суки.
Много лет прошло с того дня. Елизавета жила с почтарем, Пашка, которого теперь все звали Михалычем, – один. Работал сторожем в сельпо. Платили не густо, но к бедняцкой жизни он давно привык. Потом, когда у колхоза завелись деньги, на центральной усадьбе открыли тир, и его инструктор дед Карпенко стал любимцем деревенских пацанов. Ну кто бы еще разрешил им выковыривать из стендов слегка попорченные пульки, выпрямлять их и вновь палить из воздушек?
Как-то зимой почтарь простудился и от воспаления легких умер. Лиза, уже бабка Лиза, как и Михалыч, осталась одна. Детей они с Сергеем не нажили.
Однажды вечером сидел Карпенко в тире с пацанами, пили чай, беседовали на рыбацкие темы. Домой не торопился. Скрипнула дверь, он обернулся и с немалым удивлением увидел свою бывшую жену.
– Шо трэба? – прищурившись, спросил Карпенко. – Бегите домой, ребята, завтра придете.
Пацаны, любопытно косясь на вошедшую, скрылись за дверью.
– Так шо хотела-то? Я тэбэ вроде не звав?..
– Паша, ты же пойми меня. Ну что я могла? Прости за обиду и давай вместе век доживать. Не чужие ведь все-таки.
Говорила бабка Лиза тихо и от дверей не отходила. Видать, не знала, долгим или коротким будет разговор. А Михалыч хотел сказать много. Ох, и много хотел он сказать… Но молчал. Долго молчал, прежде чем вымолвил:
– Ну так шо… давай…