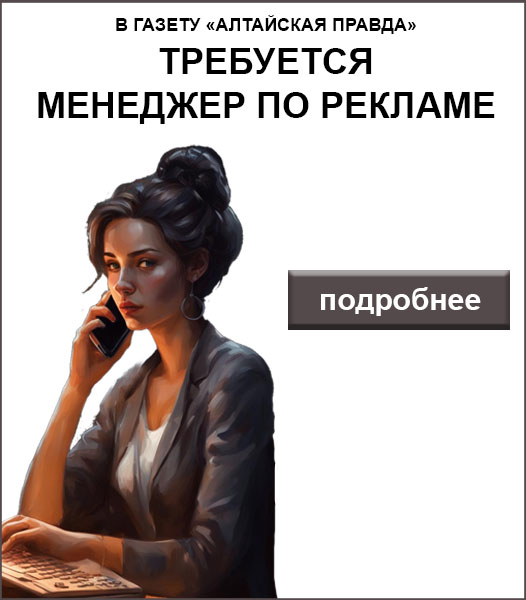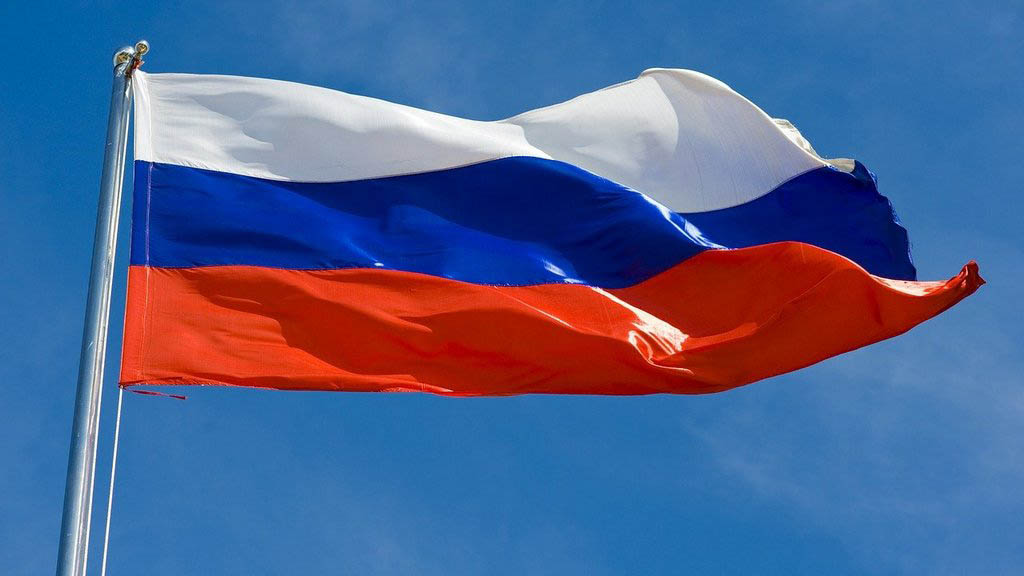«Всё в отношениях»: художник Анатолий Щетинин рассказал, как Клод Моне перевернул его жизнь
16:00, 28 ноября 2014г, Общество 3068
Это сейчас Анатолий Щетинин – художник, известный в России и далеко за ее пределами. А когда-то давно он был конструктором на комбинате химических волокон. Но потом Клод Моне все перевернул. Или расставил по своим местам? Об этом и о многом другом – наш разговор…
От судьбы не уйдёшь
– Когда в вас проявилось художественное?
– Могу сразу сказать: пионерский лагерь «Романтик» на Барнаулке. Лет семь мне было. Я вырезал из цельного куска мыла слоненка – мыло было хорошее, в то время редкость, и слоненок получился красивый. Отец говорит: «Тебе скульптором надо быть, учись».
А в школе я, как ни странно, любил вышивать. Запах ниток мне нравился... Любил рисовать. У меня сохранились те работы – акварели. Мне нравился запах акварельных красок – медовые были. Сейчас они какие-то не такие…
– Отец – скульптор, вы любите рисовать. А ваша первая профессия – конструктор на комбинате химических волокон. Как так вышло?
– Жили-то бедно. Мама – бухгалтер в Товариществе (Союз) художников, 60-70 рублей зарплата. У отца зарплата раз в год. Весь год занимали, потом раздавали. И когда после 8 класса надо было решать, поступаю ли я в художественное или в техническое, мама сказала: «Я не потерплю, чтобы еще сын был нищим. Иди учись на инженера. Ты любишь черчение, ты любишь конструировать». Мама сильно на меня влияла. Когда я должен был принять какое-то решение, мама – она еще жива была – приходила во сне и подсказывала, как правильно. Я просыпался и делал, как она сказала.
– Но сейчас-то вы художник. То есть от судьбы не уйдешь?
– В 1974 году в АКБА была конференция химпредприятий сибирского региона, я выставил свою разработку поточной линии для упаковки продукции и – второе место! Меня премировали поездкой в Париж. И там в музее импрессионистов я увидел Моне. Это был Руанский собор в полдень. Там два или три Руанских собора в полдень и это был какой-то из них. Я сейчас рассказываю, и у меня мурашки. Был как раз солнечный день, и картина сияла! Я думаю: «Как можно создать такую вещь?» Мы шли группой, долго стоять нельзя, но мне хватило трех – пяти минут. Я говорю: «Я буду художником. Я не смогу». Вернулся в Барнаул и на следующий день на заводе сказал: «Буду поступать в художественное».
Я поступил в Новоалтайское художественное училище, когда его только открыли. Но первым учителем считаю отца. После окончания училища поехал поступать в Академию художеств в Ленинград, и друг отца художник Ильбек Хайрулинов дал мне письмо для Угарова (Борис Сергеевич Угаров), президента академии. Хайрулинов был его любимым учеником: «Отдай письмо Угарову, поступишь стопроцентно». Конкурс был 250 человек на одно место! Я стоял рядом с Угаровым, но не отдал письмо. Внутренний голос говорил: не надо. Вот как судьбе угодно будет. И судьбе было угодно вот так.
Я верю всегда в судьбу. Когда голос внутренний говорит – надо слушать. И я почувствовал, что не надо мне это. Потом говорили многие, что академия сушит. Можно научиться рисовать, но разучиться чувствовать. Это вечная проблема академий. Много сил уходит на то, чтобы этому противостоять.
Уроки отца
– Отец хвалил ваши работы?
– Отец был скуп на похвалу. Может, потому, что его редко хвалили. И такого, чтобы он подошел и сказал: «Какой ты молодец» – не помню. Однажды я зашел к нему в мастерскую, он делал в Юбилейный парк двух девочек с собакой. Говорю: «Давай я тебе помогу, косички, глаза и губы сделаю девчонкам». И сделал. Заходит худсовет и говорит: «Ну великолепно! Глаза, губы, прическа у девчонок!» Как-будто они видели… После этого отец сказал: «Тебе надо быть скульптором, ты чувствуешь скульптуру лучше меня». Но такое редко было, похвалы от отца не слышал особой.
Мой отец родился в Шипуновском районе, село Хлопуново. И вместе с Анатолием Алексеевым, который сейчас действительный член Академии художеств, два парня из глухомани поехали учиться: отец – в Саратов, Алексеев – в Харьков! Есть фотографии – отец в третьем классе, и у него в руках профессиональные акварельные краски! Откуда до войны, где-то в 1935-1937 годах, в селе Хлопуново профессиональные краски? Видимо, в школе был педагог из ссыльных. И очень хороший педагог. Потому что подготовить так, чтоб с ходу два парня поступили… Я не спросил у отца об этом. И краски эти разглядел только недавно.
Связи у отца были очень большие – он с Томским (Николай Васильевич Томский, выдающийся советский скульптор-монументалист, педагог, профессор. Президент Академии художеств СССР с 1968 по 1983 г. – Прим. «АП») был знаком, Головницкий (Лев Николаевич Головницкий, известный советский скульптор, действительный член Академии художеств с 1988 года. – Прим. «АП») очень близкий его друг, есть переписка отца с ним. Комов (Олег Валентинович Комов, известный советский и российский скульптор и график, действительный член Академии художеств с 1988 года. – Прим. «АП») очень уважал отца. Но он ни разу никого не просил помочь ему вступить в Союз или с заказами. Он жил своей чисто творческой жизнью и от этого получал колоссальное удовольствие. Настоящий художник был. Он очень много писал. Худсовет не примет у него какой-то памятник, он понервничает, потом берет этюдник и уходит в бор или на Пивоварку. И когда он приходил с этюдом домой, это был другой человек – одухотворенный, умиротворенный.
Я запомнил слова отца: «Смотри отношениями». И между людьми, и между цветами. Цвет воды, воздуха, неба, цвет дали… Как небо отражается в воде – вот эту разницу надо уловить. Самодеятельный художник отличается от профессионального вот чем: он знает, что елка зеленая, так она у него и за десять километров зеленая. А она, может, фиолетовая, голубая, потому что дымка, движение воздуха. Но у него в голове она зеленая во все времена, и он ее зеленой нарисует.
У краски есть возможности, но они не безграничны. Краска не будет давать такой же свет, как солнце. Импрессионисты передавали красками цвето-воздушную среду. Дега, Ван Гог старались передать воздух. Все мы стараемся это сделать. А краски те же или даже хуже. Значит, все в отношениях. Ты написал небо, начинаешь писать воду, она у тебя светлая, и ты делаешь плотнее, плотнее и раз – в какой-то момент небо засветилось! Ты нашел тон воды...
Жена
– Я ехал в электричке в Новоалтайск поступать в художественное училище и увидел ее. Она с большой папкой – явно тоже едет поступать. Подошел, познакомился… У меня французские штаны, башмаки на платформе! Я не пижон, но я же из Франции приехал. На 25 франков я там оделся вот так! Я сразу сказал: «Это будет моя жена». Предложил ей поехать на этюды. Отец тогда как раз купил «Жигули»-«копейку». Пару раз съездили, и постепенно…
– Два художника в семье – это как?
– По-разному. Ирина – мощный, цельный человек. Большая натура. Очень много читает. У нее много убеждений, классических во всех смыслах. И это немного сковывает. Периодами надо отдыхать друг от друга. И нужно свое пространство, в которое никто не должен внедряться…
Своя песня
– Чувство цвета – с ним надо родиться или его можно воспитать какими-то упражнениями?
– Только родиться. Это врожденное качество художника. Надо беречь глаза – это главное упражнение. Самые красивые цвета – утром и вечером. Когда солнце в зените, лучи такие мощные, что выбивают цвет. А когда восход или закат – тут тень пошла голубая… Такие цвета… Почему художнику надо уметь быстро писать – чтобы поймать эти цвета.
Закат солнца – это 10 – 15 минут. И вот за это время надо успеть написать. Левитан плакал: «Не успел». Потому что нет одинаковых дней. Нет одинаковых закатов. Оттенков – миллион. Летом еще бывают одинаковые дни. А осенью каждый день вообще неповторим.
– Вы пейзажист. Почему не пишете огромных исторических полотен, например?
– Вот был Иванов Николай Петрович, лучший картинщик Сибири, я его считаю своим вторым отцом. Он «Алтайское лето» написал. И я ему как-то говорю: «Давайте сделаем вашу персональную выставку». Он: «Я не хочу позора». Я опешил: «Какого позора?! У вас «Алтайское лето» – такая картина!» А он: «А что к этой картине? Да я и ее еще не до конца написал». Каждый художник несет определенную ответственность за свои произведения. Картинщик, тот, кто пишет исторические полотна, – это другое мышление. Я в себе таких сил не чувствую, не чувствую в себе картинщика. Нужно внутреннее тщеславие для этого. Николай Петрович считал себя мэтром, и это хорошо. А у меня коль нет внутреннего состояния такого… Я не картинщик, а больше лирический пейзажист и портретист. На академической даче, куда я приезжал молодым художником, женщина, которая руководила потоком, сказала: «Анатолий, тебе спасибо за то, что ты спел маленькую, но свою песню». Мое – это лирическое тонкое отношение цветовое.
Памятник
– Вы сделали памятник жертвам политических репрессий по модели отца…
– Это удивительная история. Отец задумал памятник давно, более 30 лет назад, 25 лет назад вылепил.
– Говорили, что на самом деле это был памятник коммунистам…
– Это выдумки. Ни отец, ни мама не были в партии. У отца не было мысли воспевать коммунистов. Это прощание сына с отцом, это символ той несправедливости, которая была в обществе. Ведь и в 80-е годы могли человека посадить. Скульптура «Прощание» – она гениальная. Она цельная, там нет ничего лишнего, мысль читается со всех сторон, все говорит о трагедии. Сын – это образ сломанного поколения. Я про это отцу однажды сказал, и он с этим согласился. Они ведь правда были сломленным поколением – запуганным. Он мне так и не сказал никогда, что семья мамы бежала из Подмосковья. У деда был хороший дом, ему кто-то сказал, что утром придут его раскулачивать, и он за ночь собрался и уехал с семьей. И страх был такой, что мне об этом мама рассказала, только когда ей было уже за восемьдесят.
Он сделал модель, но о памятнике речи не шло. И сама модель чуть не пропала – в 90-е годы отец подарил ее Барнаульскому элеватору, а когда там поменялись хозяева, скульптура чуть не оказалась на свалке. Мне звонит Олег Кузьмич Шершнев, бывший директор, и спрашивает: «Скульптура вам нужна? А то выбросят». Я говорю: «Конечно, нужна!» Шершнев привез модель прямо на открытие моей выставки. И я говорю: «Памятнику быть!»
А потом я поехал в Монголию. Это была экспедиция АГТУ, организовал Михаил Шишин. Мы снимали наскальные росписи, и Шишин пригласил разных бизнесменов, среди которых оказался Александр Лебедев, миллиардер. Я написал этюд с юртой. Лебедев хотел его купить, но я этюд подарил. И подарил еще альбом, на обложке которого был как раз памятник отца. Лебедев увидел памятник: «А это что?» Я объяснил. Он: «Я финансирую полностью». Я говорю: «Ну это же не один миллион». Он говорит: «Я знаю». Он финансировал строительство в Магадане памятника жертвам политических репрессий работы Эрнста Неизвестного. Вот так вдруг все сложилось… Я приехал в Барнаул, на следующий день пошел в мэрию, в Общественной палате выступил. Губернатор поддержал. Мне дали добро, и началась работа. Я лепил памятник безвозмездно. Архитекторы работали безвозмездно. Нашлись еще бизнесмены, которые профинансировали отливку и доставку. И сейчас памятник есть. Это фантастика. Как Боженька сверху руководил…
Долг
– Вам в этом году 60 лет. У вас, наверное, тысячи этюдов и картин. Какую картину вы еще не написали?
– Хороший вопрос… Хочется написать хороший цикл пейзажей «Времена года» – Барнаулку, Катунь... Я подбираюсь к этой теме. Клод Моне писал Руанский собор утром, вечером – и там столько цвета, он разные оттенки набирал… Мне бы хотелось в своей жизни написать хороший портрет. Я чувствую, что сейчас уже появились мастерство, глубина чувств. Но я даже не знаю, кто это будет. Жалею, что не написал своих родителей и Иванова. Он предлагал: «Давай друг друга напишем», но я постеснялся.
А еще я сейчас мечтаю установить в Змеиногорске Ползунова. Это была для отца главная работа. Пять эскизов – всю творческую жизнь отец над ним работал. На днях был на кладбище у отца, сказал ему, что начинаю активно заниматься этим. Думаю, Ползунова надо вылепить и сделать. Это не то что мечта – это мой долг…