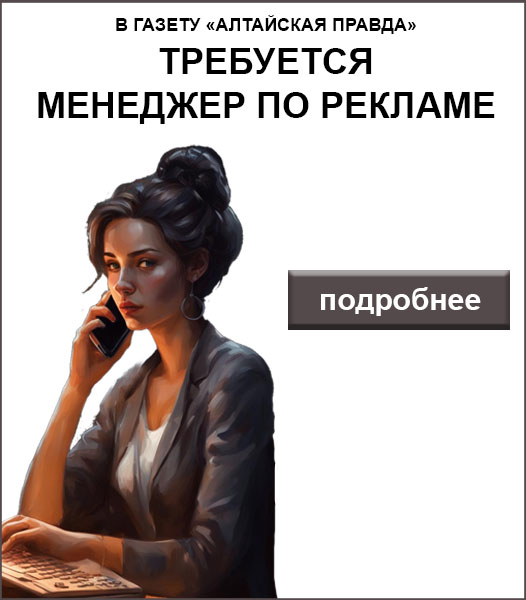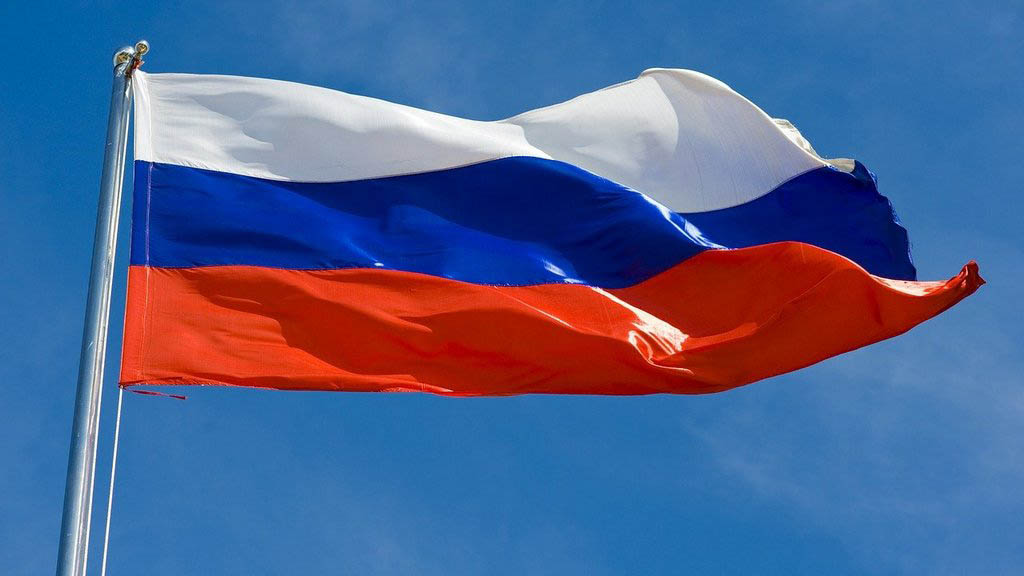В городе
11:11, 08 августа 2014г, Общество 1546
В предыдущем пятничном выпуске «АП» мы опубликовали рассказ С.В. Аникина. В нём речь идет о Барнауле в начале 1915 года. Предлагаем вниманию читателей окончание творения писателя.
(Окончание. Начало в пятничном выпуске «АП» за 1 августа.)
…Приехали мы проверить солдатку в ночлежный дом. Это было необычное для города старое здание с церковной главкой на крыше: не то тюрьма, не то заброшенные монастырские кельи. Долго стучались мы, долго звонили в какое-то било и, достучавшись, еще дольше бродили по низкому изломанному коридору, полному дров, кадок, корыт и всякой рухляди. Пол, когда-то кирпичный, был изувечен, изрыт, а в рытвинах предательски поблескивали лужи помойной грязи, всяких нечистот. Чиркая спичку за спичкой и чуть не задыхаясь от вони, мы тыкались из одной двери в другую, спрашивая:
– Где тут живет солдатка Трофимова с матерью и троими детьми?
– Трофимова? Какая Трофимова? Тут никакой Трофимовой нет! – откликались на зов сип-лые голоса. – Хлюпкина рази?
Завернули направо, кто-то услужливо распахнул перед нами дверь, мы вошли. Улеглись ворвавшиеся следом за нами клубы вонючего холодного пара. Осмотрелись. Прямо среди крохотной сводчатой комнатки стояла и топилась накаленная до огненного красна железная печь, трое малюток, видимо погодки, играли на голом кирпичном полу, причем младший с подсученной выше спины рубашонкой, голенький и грязный, ползал. Перебирая ручонками пространство пола, он сидя подтягивался, передвигал себя вперед, и благодаря, должно быть, частому шмыганью о кирпичи все сиденьице его было ошмыгано, гноилось, кровоточило... Другие двое, девочка с мальчиком, испугавшись нас, притихли. Прижались близко-близко друг к другу, таращат на невиданных посетителей большие удивленные глазенки, окаймленные рамкой грязи и затертых высохших слез.
У самой двери на табурете сидела перегнувшись старуха, должно быть, полоумная, так как в гнойных глазах не видно было ни мысли, ни страха, ни удивления. Сама солдатка, бойкая пригожая бабенка, не по обстановке опрятная, миловидная, вскочила на ноги, вытерла фартуком стул, на котором сидела, пододвинула его к ногам Марии Филипповны.
– Здрасте, барыня! Садитесь, садитесь! Не прибрано вот у меня, сейчас с работы вернулась, не поспала...
Говорила певучим ровным голосом, не смущаясь и не теряя достоинства. Я следил и за солдаткой, и за Mapией Филипповной, видел, как понравилась бабенка барыне, как сразу создалась между ними атмосфера доверия. Вполне понятно было и то, что запущены и грязны ребята, бедна и грязна обстановка в комнате.
Мы уехали, вполне удовлетворенные нашим расследованием. Пособие Трофимова, она же Хлюпкина, получила в полном размере: на себя, старуху и троих детей.
Мы с Mapией Филипповной почувствовали даже некоторое душевное удовлетворение после всего этого, как вдруг!.. из городской управы бумага. Резкая бумага, грубая. Кто-то донес, и кто-то проверил этот донос; по проверке же вышло, что Хлюпкина вовсе не Трофимова, а Трофимова – не Хлюпкина, и что ни у той, ни у другой совсем ребят нет, и нет никакой полоумной старухи. Помню, меня взорвало это, я стал изливать перед Mapией Филипповной свое негодование. По-моему, она должна была немедленно послать к черту всю управу с ее ненужными грубыми бумагами, тем более, что это не первый случай: многие ушли из попечителей благодаря некорректности головы и грубости управы...
Mapия Филипповна терпеливо выслушала все мои негодующие речи, грустно, грустно покачала головой и проговорила:
– Я работаю не ради головы городского и не управе служу... я делаю необходимое, народное дело...
Отвернулась, пригнулась над письменным столом, стала писать управе «бумагу». Я читал эту бумагу: попечительница признала вину свою и взяла неправильный расход на себя. Тогда я почувствовал, в чем было право Марии Михайловны назвать его превосходительство «Яшкой».
III.
Старшая дочь Шурочка писала с войны характерные письма. На одной и той же странице без всякой связи и последовательности она сообщала о новой эффектной шляпке, купленной в Варшаве «страшно-страшно дешево» и которая идет ей «удивительно-восхитительно», о новых сапогах для передовых позиций, о том, как она набила руку на солдатских письмах, как в нее влюбился доктор и какие ужасные раны причиняют разрывные пули. Раны эти описывались еще с большей подробностью, чем шляпки, и от этих детски наивных описаний становилось тяжело дышать, подкатывало к горлу и чувствовалась на плечах какая-то еще неосознанная, но неизбежно грядущая махровая вина.
Письма становились достоянием всех знакомых дам всего города. Читали их вслух, обсуждали. Дамы просили последнюю Шурочкину фотографию в форме сестры, любовались ею, как бы примеряя на фотографии описанную шляпу, хвалили доктора за то, что у него недурной вкус, но никто ни словом не заикался о разрывных пулях и ужасных ранах. Странным образом раны эти не вмещались в сознании дам; мужчины же говорили только: «гм»... и снова сдавали или же пускались в отвлеченные разговоры о международном праве.
Бродил я по базару, прислушивался к разговорам.
Сибирские базары – замечательное явление русской жизни. Это какая-то этнографическая ярмарка. Здесь рядом, воз к возу, сидит и торгует вся пестрая многоязычная Россия. Великорус, литовец, поляк, немец, эстонец, мордвин, русин, полтавец, татарин, киргиз... все со своим говором, одеждой, манерами, упряжью... У каждого свое, особое, и у всех вместе общее, русское, чем болеют все: война.
Здесь тоже читают газету, обсуждают ее, но не так, как интеллигенция, – себе под нос, хмыкая и пыхтя папиросой. Здесь над газетой священнодействуют, развертывают ее, как талисман какой, с трепетом, замиранием сердца. Читает один, кто считает себя более других понимающим, около него толпа напряженно слушающих людей. Сколько раз я прислушивался к таким базарным чтениям и ни разу не слышал правильного чтения без искажения слов и смысла.
Война, конечно, царила над всеми уголками жизни, она картинно бросалась в глаза всюду, кричала о себе, звала и... манила. Ужаса перед ней не видать было и здесь, не чувствовался он даже среди нового призыва. Теперь уже призваны были не «парни в соку», а пожилые, бородатые люди с сединой. Молчаливыми толпами наполняли они улицы, базар, постоялые дворы, с ними жены, дети на возрасте. У всех вид сосредоточенный, деловитый: знают, что надо сделать, куда пойти, кому что сказать... беспечности ни капли.
IV.
С появлением в городе раненых дамские круги взволновались. Пошла на раненых мода. Дамы как-то враз забыли свои заседания, оживились и если шили теперь, то на раненых, на своих раненых, которые прибыли и прибудут еще. Стали открываться один за одним «пункты» для приема раненых. Первым открыло «пункт» Сибирское общество, потом Красный Крест, общество чиновников Алтайского округа... Смущенным солдатикам приходилось выбирать: куда идти? Охотней шли туда, где попроще, именно на пункт Сибирского общества. Другие пункты ревновали, силились переманить к себе...
Мы с Mapией Филипповной, садясь теперь на машистого Корейца, ехали не всегда к солдаткам. Все чаще и чаще приходилось мне править к «пункту раненых». Здесь радушная Mapия Филипповна глядела за щами, пирогами, за кашей, следила за тем, чтоб ни один из раненых не остался голодным, чтоб все кушали вволю. А кушать вволю по-сибирски – это... ух, сколько надо съесть всего. Солдатики кушали. Потом надо было одеть-обуть их потеп-
лее, тоже по-сибирски, найти им попутчика, проводить домой, к родным.
Мало-помалу и базар стал наполняться ранеными. И я стал замечать какую-то смутную перемену в настроении базара. Так же собирались кучами, слушали. Но слушали не всегда газету, и не с тем грустно-молитвенным спокойствием, как прежде. Смотришь, где-либо в говяжьем ряду толпа. Подойдешь ближе, пригнешься: слушают раненого. Наблюдаешь за лицами слушателей. Мужики, бабы, старухи с мальчишками, все окаменели точно, боятся дышать. По глазам только видишь, что переживается здесь не газетное известие, а что-то неизмеримо большее и до конца понятное, свое. Стали также секретничать. Видишь издали: большая, оживленная толпа, подойдешь – замолчат, примут скучающий вид. Изредка из такой скрытной толпы уловишь фразу: «Всю нашу державу продали сукины сыны!»
Уловить контуры нового настроения, принесенного в город ранеными, было нельзя, но чувствовалось, что оно есть, оно растет и ширится не только в среде простонародья, на базаре, а также и в интеллигентских кругах. В общих словах настроение это можно было бы охарактеризовать так: война из праздника стала переходить в будни. То, что выглядело заманчивым, героичным, становилось обыденным, а ужасы, мимо которых проходили не замечая, выплыли, стали осязаемы.
(Печатается в сокращении.)
Публикацию подготовила Светлана Тирская