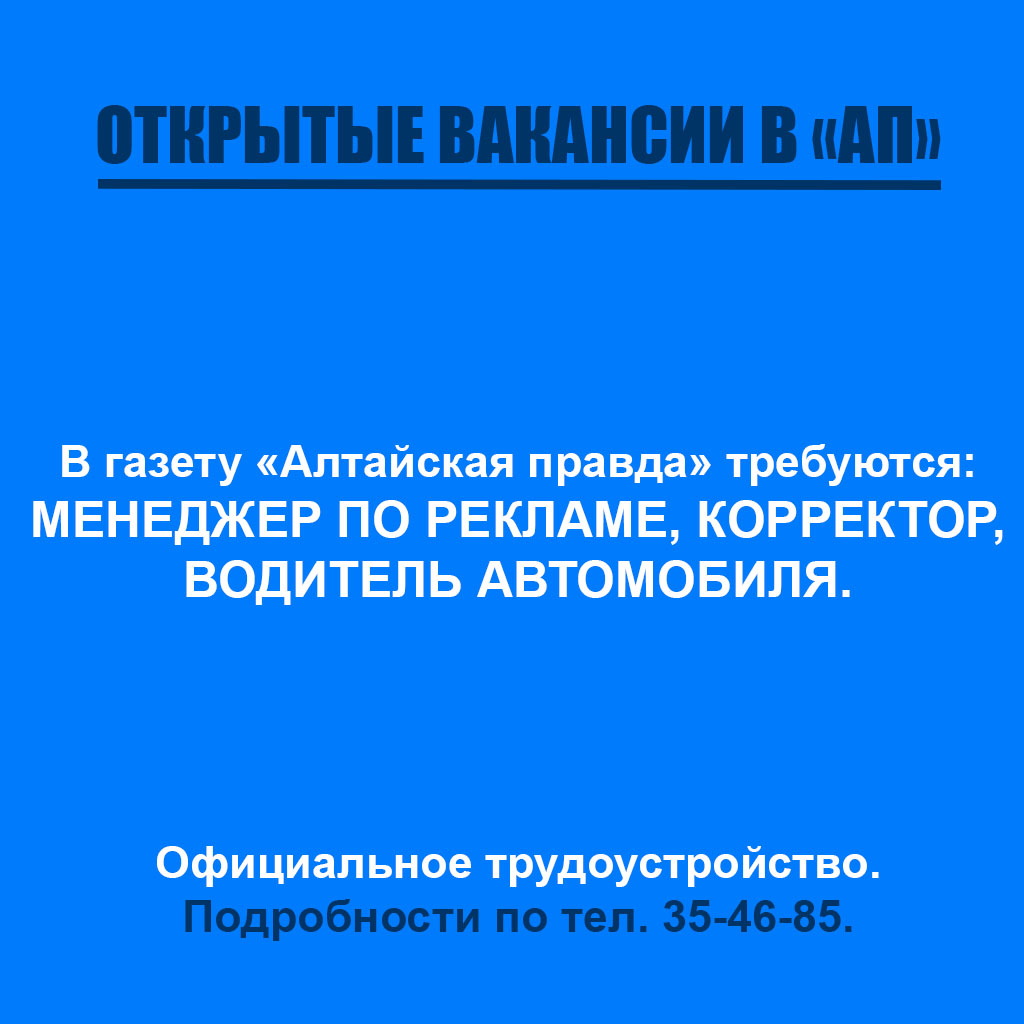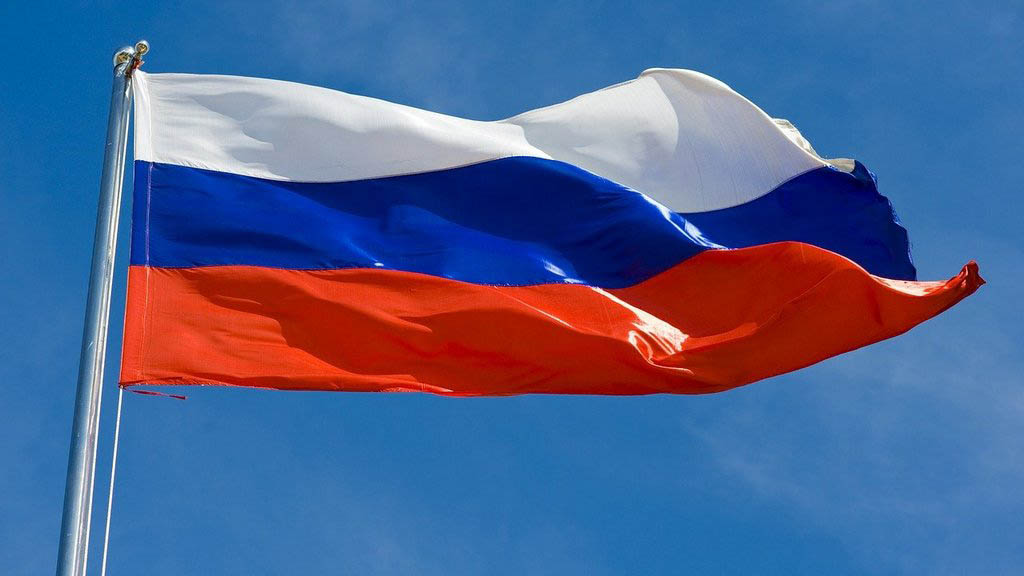Не все дожили до Победы
Воспоминания о детях Ленинграда, попавших в тыл
00:00, 22 июня 2013г, Общество 1764
В прошлом году в квартире Светланы Ерыгиной раздался звонок. Девушка Ирина из Санкт-Петербурга просила о помощи. Уже много лет ее отец пытался разыскать своего младшего брата, вывезенного из блокадного Ленинграда в 1942 году, но так и не смог. Ирина продолжила его дело.
В тот страшный год дети были эвакуированы из осажденного города порознь: старшие брат с сестрой в Ярославскую область. Куда увезли младшего трехлетнего Игоря Назаренко, не знал никто. К председателю Алтайской общественной организации «жители блокадного Ленинграда» Ирина обратилась случайно – добрые люди сказали, что она помогает в поисках родственников и детей, пропавших во время эвакуации. Выяснилось, что имя Игоря Назаренко есть в списках малышей, привезенных на Алтай из Ленинграда и умерших в Боровлянке Троицкого района. Напротив его имени значится: похоронен 14 октября 1942 года. Через две недели Ирина была на Алтае – на открытии мемориального комплекса детям блокадного Ленинграда.
«АП» не раз поднимала тему эвакуации детей из осажденного врагами города. Освещали мы и открытие комплекса. Однако не только в Троицком районе принимали изголодавшихся и изболевшихся детей. И не только из Ленинграда. По информации Государственного архива Алтайского края, наш регион к концу 1942 года принял около десяти тысяч маленьких жителей Киева, Калинина, Смоленска, Ростова, Крыма, Днепропетровска, Орджоникидзе, Грозного. 88 детских домов были размещены в 19 районах края. Только маленьких ленинградцев насчитывалось более четырех с половиной тысяч.
Светлана Ерыгина рассказывает:
- Детей из Ленинграда отправляли в тыл, где могли принять несчастных ребятишек. Но очень многие из них гибли уже в пути. Солдаты, встречая такие эшелоны, пытались подкормить ребятишек, не зная, что этого делать было нельзя. Голодные дети набрасывались на куски хлеба, и даже той крохотной порции, которая доставалась каждому, им хватало для того, чтобы умереть: организм, выдержавший длительную голодовку, не мог справиться с едой.
И то, что к нам доехало такое большое количество детей, - большая удача. Есть и другие примеры. Как и на Алтай, из Ленинграда был отправлен эшелон с детьми в Вологду. Когда местные жители открыли вагоны, живыми нашли только девятерых...
Из отчетов, сохранившихся в архиве, следует, что в самом тяжелом состоянии на Алтай прибыли дети до трех лет. Заведующий крайздравотделом сообщал: «В 1942 году, несмотря на то что детям были созданы условия для правильного ухода и питания, все же наблюдается повышенная детская смертность, особенно по первому Ленинградскому дому малютки Троицкого района, где сконцентрированы были дети с дистрофией 1-й и 2-й степени, уже имеющие осложнения: нома, цинга и др.».
По словам Светланы Ерыгиной, прибывших детей приходилось вытаскивать на руках, настолько они были истощены.
- Мне рассказывали: разгружая вагоны с детьми, вынесли четырехлетнего мальчика, который, не услышав привычных звуков бомбежки, решил, что война кончилась. Он сидя на руках кричал: «Победа!», а взрослые не знали, какими словами объяснить маленькому страдальцу, что он приехал в тыл и до победы еще ой как далеко. Конечно, все были напуганы. Мне рассказывали, что малыши, которые попали в эвакуацию в Киргизию, расплакались, услышав незнакомую речь. Как потом объяснил более старший, они решили, что попали к фашистам, - говорит Светлана Ерыгина.
Но и с приездом в глубокий тыл испытания для них не закончились. Оценивая организацию приема детей, заведующая Алтайским крайоно отмечала и положительные примеры, и «исключительное бездушие» некоторых руководителей: председатели райисполкомов Солтонского и Ельцовского районов «не вывозили детей из Бийска целый месяц». Для размещения детей выделялись в основном неиспользованные старые здания нередко барачного типа, нуждающиеся в ремонте. Не хватало мебели, спали они в лучшем случае на топчанах, на них же сидели, играли, делали уроки. Дети были плохо обеспечены теплой одеждой, обувью, особенно, как отмечалось в документах, прибывшие из Ленинграда. Им требовалась «большая денежная и оперативная помощь». Помощь требовалась и в обеспечении питанием.
Екатерина Тряпицына, воспитывавшаяся в Косихинском детском доме, помнит, как ее привезли на Алтай:
- Здесь дощатые столы, между досками большие щели, в которые как бы мы ни старались, все равно сыплются крошки хлеба. После еды мы лезем под столы и собираем все до крошечки…
Светлана Ерыгина говорит:
- Я и сама не замечала за собой, что всегда собираю крошки со стола, пока внук не обратил на это внимание. Вот такое наследство нам осталось от тех страшных лет...
Для того чтобы хоть как-то выправить ситуацию с питанием и организовать минимальное обеспечение витаминами ослабших детей в Алтайском крае (как и на других территориях Советского Союза), было организовано производство хвойных напитков.
Из распоряжения Совета народных комиссаров СССР: «Обязать Алтайский крайисполком «оказать предприятиям Наркомпищепрома СССР помощь в организации производства витамина С из хвои, выделив им необходимое количество рабочих для заготовки хвои и гужевой транспорт для доставки ее на предприятия… Освободить производство витамина С из хвои на 6 месяцев от платежей в бюджет по отчислениям от прибылей».
В Алтайском крае производство этого напитка было организовано в двух городах. Из докладной записки председателю Алтайского крайисполкома Смердову Н.А.: «Учитывая весьма незначительную стойкость хвойного напитка (до двух дней), а также что в одном Бийске организация такого производства в сутки 4500 литров не найдет сбыта, крайпищепром решил организовать два цеха по производству витамина С на Барнаульском пивоваренном заводе и Бийском пивзаводе с суточной производительностью по 1,0 тонне переработки хвои с установлением задания по выработке хвойного напитка до конца года».
Кроме того, при каждом детском доме в летний период производилась заготовка грибов и ягод, старались организовать подсобные хозяйства.
Жители нашего края помогали спасать детей.
В прошлом году в Боровлянке Троицкого района был открыт мемориальный комплекс погибшим детям. Теперь планируется открыть памятник краевого значения.
- Конечно, он нужен, - говорит Светлана Ерыгина, председатель краевой общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». – Но, может быть, есть смысл создать памятник всем детям, хлебнувшим горя во время войны?
Из истории Светланы Ерыгиной:
- Меня еле спасли в Ленинграде. В изголодавшееся, практически светящееся насквозь тельце врезалась резинка, поддерживающая нехитрое бельишко. Было кровотечение. Врач, делавший перевязку, отметил, что еще немного – и меня спасти бы не удалось. Эвакуирована в Челябинскую область вместе с мамой. Хорошо помню День Победы. Все радуются, празднуют и плачут. Я все удивлялась: «Чего плачут, победили же?!» И невдомек мне тогда было, что плакали по погибшим на войне мужьям, отцам и братьям. Плакала и мама. Наш отец тоже не вернулся с фронта...