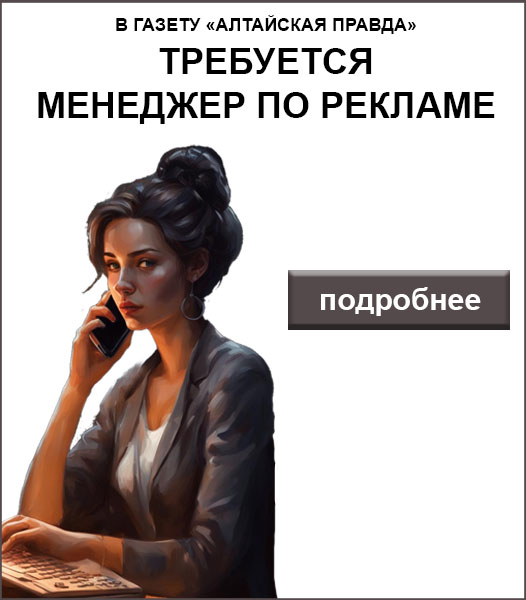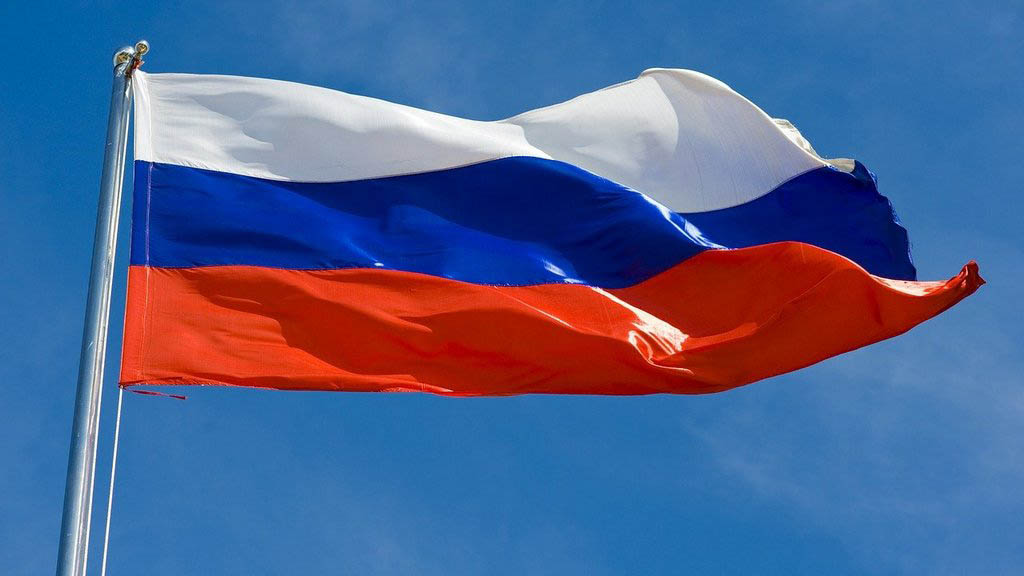Байка. Письмо солдата любимой девушке
15:00, 22 февраля 2021г, Общество 9216
Шла обычная ночная смена. Уже давно выпили дежурный кофе. Не ближе чем полтора часа назад трезвонил в последний раз наш старенький трудяга-коммутатор, тянулось самое нудное время. Мой наставник ефрейтор Ковтонюк раздраженно бросил ручку на чистый тетрадный листок и повернулся на сто восемьдесят градусов.
– Слушай, ты о чем в письмах домой пишешь?
– В письмах? – удивленно спросил я. – Да так, обо всем помаленьку. А зачем тебе?
– Ты вот что, – помягчел лицом ефрейтор. – У тебя язык лучше моего подвешен, помоги мне письмо девчонке настрочить. А то я не знаю, о чем ей писать. Каждый день одно и то же.
– Да как же я ей буду писать? – непритворно удивился я. – Это ж твоя девчонка, не моя.
– А, ерунда, ничего страшного, – Ковтонюк уже загорелся. – Ей-то откуда знать, кто писал? А ты в институте три года учился, в голове должно быть побольше, чем у меня. Придумаешь что-нибудь. Давай садись сюда, а я за коммутатор.
Спорить первогодку со старослужащим и объяснять, что я учился не на журналиста, а на инженера, было бесполезно, и я без лишних слов согласился. Сначала осторожничал. Аккуратно выбирал слова и выражения, детально описывал окружающую нас монгольскую природу и пробовал потихоньку намекать о своей любви. Получалось скучновато. Тогда я плюнул на приличия и выплеснул на бумагу всё, что рожал полубредовый, разжиженный дремой мозг.
– Ну, чего ты там понаписал? – И десяти минут не прошло, полез глазами в листок нетерпеливый ефрейтор.
Я покашлял для солидности, подсыпал сахарку в голос и принялся читать: «Здравствуй, любимая! Среди песков и угрюмых сопок, злобных ветров и верных друзей в томительной, однообразной череде как близнецы похожих друг на друга дней нет такого часа, такой минуты, чтобы я не вспоминал о тебе. Боже, как я ругаю себя за то, что порой был так невнимателен к тебе! Не замечал твоей грусти, не видел тронутых печалью глаз. Не понимал по-настоящему, какое ты чудо. Поэт сказал: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии». Только сейчас я понял до конца огромное значение этих высоких слов. Только отсюда, за тысячи километров, разглядел теплую, неброскую красоту твоего милого лица...»
С каждой прочитанной мною фразой рот Ковтонюка заметно увеличивался в размерах, а по окончании декламации разъехался во всё лицо.
– Здорово! – восхищенно выдохнул ефрейтор. – Молоток! То что нужно. Верка три дня будет за голову держаться, думать, что со мной стряслось.
Он довольно пихнул меня в плечо:
– Давай двигай дальше!
Через полчаса, когда послание было закончено, в дверях появилось прыщавое лицо приятеля ефрейтора, Андрея Гурко, тоже старослужащего.
– А, Андрюха! Заходи, – махнул рукой Ковтонюк, – послушай, чего мы тут насочиняли.
Лицо, а вслед за ним и вся тщедушная, угловато-ломкая фигура переместились в комнату.
– Ну, читай, – лениво повелел ефрейтор.
Я принялся читать, а они ухмыляться. Бодренько оттарабанив страницу, я перевернул лист, укрепился голосом и неторопливо прочел последнее: «Прости, что редко пишу тебе, дорогая моя. Что поделаешь, покой нам только снится. Здесь, на чужой земле, я охраняю небо Родины и небо над твоей головой. Пиши. Я не могу без тебя. Я люблю тебя. Жди меня, и я вернусь, только очень жди...»
– Шо, и ты тоже сочинял? – подозрительно посмотрел Гурко на моего наставника. – Не знал за тобой такого.
– Да нет, – усмехнулся ефрейтор. – Это вот, смена старших поколений.
– А-а, – Гурко повернулся ко мне. – Давай и мне пиши. Сейчас схожу конверт принесу.
Так зародилась моя слава.
После ночной смены меня и других первогодков послали мыть полы в коридоре казармы. Я отрешенно водил по полу тяжелой от воды тряпкой и думал о мягкой подушке и прохладной простыне: «За всю ночь даже полчасика не прикемарил. Всё эти письма долбаные. Спасибо Юре Ковтонюку, додумался, придурок...» Внезапно моя пятая точка наткнулась на препятствие и я инстинктивно понял, что уснуть в ближайшее время мне не удастся.
– Бросай это грязное дело, – сказал дежурный по роте, здоровяк Пехотин, – иди за мной. Я тебе другую работенку дам.
В сушилке сержант показал мне пальцем на притулившийся к недавно окрашенной блескучей тумбочке табурет и вытащил из внутреннего кармана помятый голубенький конверт:
– На, почитай, там и фотография есть, можешь посмотреть.
Письмо было адресовано самому счастливому солдату. Батальонный писарь такие послания частенько в роту приносил: «Самому счастливому», «Самому весёлому», «Самому отважному». В общем, самому-самому. Девчонки от пятнадцати до девятнадцати узнавали у пришедших из армии ребят адреса их частей и строчили письма во все подряд. Кто смеха ради, а кто и в тайной надежде на ответ-переписку, симпатию-любовь. Это письмецо ничем не отличалось от других: «Узнала твой адрес... Решила написать... Хочу дружить... Жду ответа».
– Прочитал? – деловито спросил Пехотин. – Тогда на тебе ручку и бумагу и принимайся за дело.
В ход пошло всё. И старое: «Среди песков и угрюмых сопок, злобных ветров и верных друзей, в томительной, однообразной череде...», и новое: «Я никогда не видел тебя, видел только твою фотографию, не слышал твоего голоса, но я знаю, что мы обязательно встретимся. Мне шепчет об этом ветер с Родины и выстукивает по ночам сердце. Напиши мне. Жду и надеюсь».
Пришел Сашка:
– Ну что?
– Готово. Как смог, лучше не получилось.
Пехотин принялся читать, хмыкать и тереть пальцем свой большой мясистый нос.
– А не чересчур будет? – с сомнением спросил он. – Подумает еще, что я пришибленный от рождения, и отвечать не станет.
– Можно убрать кое-что, – потянулся я за листком. – Сделать построже, посерьезнее.
– Ладно, – Пехотин аккуратно сложил листок и сунул его в конверт. – Должна ответить. Ну а если не ответит, лучше и на глаза мне не попадайся.
Девушка ответила, и заказы на мою продукцию посыпались со всех сторон. После десятого послания мне пришла на ум замечательная мысль сделать образец. Теперь я почти ничего не придумывал, а просто переписывал готовое, изменяя имена, фамилии и даты, и, если имелось в наличии вдохновение, вставлял несколько свежих фраз. На всё про всё – пятнадцать минут. Потом пошел еще дальше – изготовил «бланки»: написал в ночную смену около дюжины одинаковых писем, оставив там, где это было необходимо, пропуски. На одного клиента стало уходить не более пяти минут. Зажил поспокойнее. А вскоре, раскусив мой нехитрый способ, все желающие стали писать такие письма сами. Большого труда это не составляло.
Прошло около года, прежде чем я в последний раз попробовал написать письмо по заказу. Уж очень Мурычу отказывать не хотелось. Фамилия Мурыча была Муромцев, звали его Олегом, звание он имел ефрейтора, а должность – батальонный писарь. Через него мы узнавали о том, что говорят о нас отцы-командиры и что они собираются предпринимать в ближайшем будущем. Это он ходил за письмами на Мандал-Гобийский аэродром и зачастую отдавал их нам без «таможенной» проверки комбата и замполита (за что много раз ими наказывался и даже сидел на губе). Рискуя нарваться на неприятность, придерживал у себя интересные журналы из небогатой батальонной почты, и мы могли читать их раньше подписчиков-офицеров. Ночной смены для этого вполне хватало. Одним словом, отказывать Мурычу было никак нельзя.
– Мне говорили, что ты по первому году классные письма о любви писал. Верно? – спросил Олег.
– Да пробовал, – чувствуя, как покатилось по груди приятное тепло, небрежно усмехнулся я. – А тебе-то это зачем? И чего ты кислый такой, съел что-нибудь?
– Нет, не съел, – медленно ответил Муромцев. – Письмо получил. Замуж ей предлагает один хмырь. В общем, помощь твоя нужна. Надо такое письмо написать, чтоб передумала.
– Да что я тебе, Господь Бог, что ли? Чтоб отказалась! Это, знаешь...
Мурыч смотрел мне прямо в глаза и молчал. Потом протянул мне измятый конверт:
– Там она...
– Ладно, ладно, сам разберусь. Иди гуляй, через час придешь.
Я не сумел написать это письмо. Кроме двух слов: «Здравствуй, любимая!», я вообще ничего не написал. Припомнил было: «Среди песков и угрюмых сопок...» и «Лицом к лицу лица не увидать...» и тут же незримо увидел перед собой серое лицо Олега Муромцева, его потускневшие глаза и сухие губы. Твердо зачеркнул «любимая», бросил ручку на стол и пошел искать Мурыча. Он сидел в курилке и смотрел в пол. Я присел рядом. Посидели немного. Мурыч молчал. Я тоже.
– Не смогу я, Олег, – сказал я наконец. – Тут только ты сам. Попробуй. Может...
– Ладно, – Олег поднял глаза и чуть заметно улыбнулся. – Спасибо тебе. А это... Да переживем как-нибудь.
Вернувшись в сушилку, я мелко изорвал клетчатый листок со словами: «Здравствуй, любимая!» Ветер отнес в сторону белый бумажный снег. Я закрыл окно и вышел в коридор. Рота строилась на вечернюю поверку.